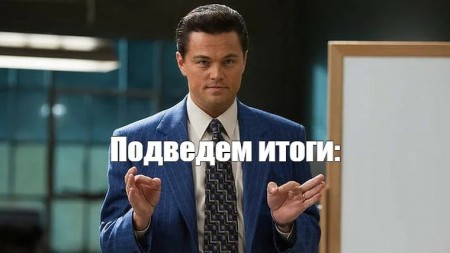Борис Гребенщиков: За мной стоит то, что больше меня
У «Аквариума» на 37-м году его жизни — аншлаг, как во времена, когда только создавалась уникальная для России эстетика рока.

Личность БГ и творчество группы, состав которой не раз почти полностью менялся, оставались определяющими в развитии современной музыки. Теперь на концерты БГ ходят не только послушать песни, но и приобщиться к истории. Он несет свою славу с достоинством и иронией. О его взглядах и пристрастиях мы говорили накануне концерта, который состоится 26 июня в клубе «Б1 Максимум».
— С вами принято говорить о музыке и религии, а я помню, что вы принимали участие в кампании «Голосуй, а то проиграешь» в поддержку Ельцина. Вам не чужд интерес к политике?
— Упаси Господь. Это не имело никакого отношения к политике. За участие в этом единственном концерте несут полную ответственность Стас Намин и Сережа Соловьев, которые отвечали за эту кампанию. После большого количества выпитого легкого вина они объяснили, что если я не приеду хотя бы на один концерт, то полностью разрушу их репутацию. Они звонили мне, моей жене, и в конце концов я приехал на один концерт из Лондона. Кстати, получил удовольствие.
— То есть вы стремитесь жить в обществе и быть свободным от общества?
— Ты не свободен от чего-то, когда ты это любишь. Я родился в этой стране, и я ее люблю. Мне может многое не нравиться, но от факта любви уже никуда не деться. Хочу я этого или не хочу, но я участвую во всем, что происходит. Другое дело, что я свободен, потому что мне от этой страны ничего не нужно.
— Каким вам видится общество сегодня?
— Как я ни стараюсь увидеть это общество, я его не вижу. Можно сказать, что у нас фашизм, коммунизм и любой другой -изм, как делают многие, тем самым лишаясь своей точки зрения. Я же вижу отдельных людей, и вижу, что они во многом определяются тем, что о них думают. Много раз наблюдал, как чудесный человек был заподозрен кем-то в чем-то, и его поведение становилось угрожающе другим. Потом, когда эту точку зрения выкинешь из головы, понимаешь, что тебе это приметилось, человек, какой был, такой и есть. Поэтому я не склонен навязывать концепции ни обществу, ни людям.
— «Люди по сути своей слабы» — ваши слова?
— Это многие до меня говорили, а я не говорил, потому что не вижу ни силы человека, ни его слабости. В чем слабость кролика? Да нет у него слабости. Кролик есть кролик, в этом его сила и его слабость. То же и в человеке. В нем есть то, что лично мне будет казаться хорошим и плохим, но это мне. Другому кажется по-другому. Человека нельзя определить.
— Что вы цените в людях больше всего?
— Как это проще всего сказать? Как говорят богословы, в каждом из нас есть искра Божья, или не важно, как это называется. То есть в нас во всех вложено одно и то же. Когда мы видим различие, мы идем от смерти к смерти, когда мы видим общее, нам открывается дверь. Я вижу общее. Я вижу, что все мы живые и происходим из очень хорошего источника. Есть лучше, есть хуже, глупее, умнее, мне это может нравиться, не нравиться, но, по счастью, я не судья.
— Вы все время были в религиозном поиске. Чего вы искали, что не устроило вас, например, в православии?
— Это то, что про меня пишут в газетах. Ко мне это не имеет отношения. С моей стороны было бы нелепо заниматься религиозным поиском — а что я, собственно, ищу? Бога? Бога искать не нужно. Бог всегда перед нами. Если я что и искал, точнее, собирал, то это методы восхищения. Если я вижу такую невероятную красоту и мне так хорошо, значит, я не первый во Вселенной, кто это видит, и я искал этих людей и эти источники. Мне мой преподаватель в институте сказал, что если меня интересует «почему, почему, почему», то ответы надо искать не в прикладной математике, а в духовной семинарии. Я принял это замечание, и с тех пор не ищу ответов в математике, их там нет. И ответов я, собственно, не искал никаких, мне просто было интересно, что умные люди думают по поводу жизни. И я видел, что одни поклоняются одному и таким образом выражают свою радость, другие — другому. Меня занимало, как люди празднуют происходящее и какие правила рекомендуют для этого. Ногу за ухо заложить или залечь в пещеру, где лучше всего ощущаешь восхищение.
— У вас один из героев «Ивана и Данилы» говорит: надо действовать. Как, по-вашему, надо действовать?
— Какая-то очень не моя фраза. Слишком революционная. Революция, кроме убийств, ни к чему не приводила. Но и созерцателем меня назвать сложно. Я в жизни только альбомов записал больше, чем обычные деловые люди.
— То, что вы не встраивались ни в какую номенклатуру, думали о высоком, помогало или мешало достичь успеха?
— Не помню ни одного раза, чтобы я думал о высоком. Если люди сидят и думают о нем, то это значит, что высокое отдельно от них. Когда человек любит культуру, он не в состоянии ее воспринять. Это отдельный от него феномен. А культура — это не что-то постороннее, чему можно поклоняться, культура — это часть твоей внутренней жизни, любить которую так же невозможно, как любить собственную селезенку. Это абсурд. Культура — это ты. Это образование, это знание языков этой самой культуры, без образования мы все бы сидели в той же деревне, откуда пришли наши предки. Но образование — не вещь в себе, это инструмент. Кстати, и религия — это инструмент. Любая религия есть ответ на вопрос человека — что же мне делать? Она дает ответ на этот мучающий людей вопрос в терминах данной культуры.
— В чем связь музыки и религии?
— Я не уверен, что есть связь между музыкой и религией, это разные названия одного и того же.
— Религиозные практики, которыми вы пользовались…
— Я не знаю, что такое религиозные практики. Мои песни — религиозные практики. Это единственные религиозные практики, которые я знаю.
— Для вас музыка с самого начала была серьезным занятием или обольщение девушек тоже входило в вашу задачу?
— Девушки — это очень приятно. И наверняка их можно обольщать, но я не пробовал, занятие пением мне всегда казалось более захватывающим. Мне музыка давала больше, чем могли дать девушки.
— Что она давала?
— Сложно выразить словами. Ощущение истинной жизни — пожалуй, это будет точно.
— Что такое истинная жизнь для вас?
— Острое переживание жизни. Ее величественности.
— Но кроме этого в ней есть зло, страдание, печаль.
— Каждый видит то, что в нем есть.
— Скажем, Достоевский видел в первую очередь страдание. А вы?
— Вы считаете, что Достоевский был здоровый человек?
— Нет.
— Ну, о чем мы тогда говорим. Зло — это болезнь.
— Все злые люди больные?
—А как же? А почему же они злые, по-вашему? Много тысяч лет говорится одно и то же. Зло — это очень неэкономная модель подхода к жизни. Чтобы сделать элементарную вещь, тебе приходится совершать в десять раз больше ненужных движений. Это зло. Далай-лама говорил, что мудрый эгоист будет делать добро другим, потому что если он мудрый эгоист, то сообразит, что делать добро другим намного лучше, чем делать его себе. Это на уровне детсада.
— Во времена организации ленинградского рок-клуба вы как-то сказали, что любая некоммерческая музыка мечтает стать коммерческой. При таком разгуле коммерческой музыки вы не отказываетесь от своих слов?
— Откуда вы эти фразы берете? Во-первых, я был лишь одним из инициаторов создания клуба. Во-вторых, я никогда не употреблял слов «коммерческая музыка». Та музыка, которой я занимался, находится вне этих понятий. Есть законы термодинамики. Форма автомобиля такова не потому, что она коммерчески выгодна, а потому, что удобна для езды. Ноты выстраиваются не по коммерческим законам, а по законам гармонии. Гармония не имеет отношения к коммерции.
— «То, что я сделал вчера, — это то, что я сделал вчера. Нужно доказывать себя с нуля и по новой». Распространяется ли этот взгляд на творчество?
— Все, что мы делали, находилось в ряду того, что происходит в мире. Делали достаточно неумело, но выяснялось, что о тех ориентирах, на которые ориентировались мы, люди вокруг вообще мало думали. У нас точки отсчета были другие. Я сегодня читал журнал Vogue, где Алена Долецкая сожалеет о том, что у нас шьют не так. У нас и играют не так. Мы почему-то не хотим делать все на мировом уровне. Даже когда пытаются, не получается. «Мои руки связаны, мой язык нем». Чтобы сделать хорошую вещь — картину, платье, песню, блюдо, — в это надо вложить огромное количество собственной души. Это не то, на чем можно экономить. А у нас экономят. А что какая-то ерунда получается — «да на-армально…» Вот это «нормально» с этой интонацией меня и бесит. Нельзя относиться к себе не по большому счету, это неуважение к себе. Этим неуважением большая часть нас больна. Я тоже. И от этого пытаюсь вылечиться.
— С одной стороны — неуважение к себе, с другой — убеждение, что мы лучшие в мире. Откуда этот дисбаланс оценки?
— Да оттого, что, сказав: «Мы лучшие в мире», мы избавляем себя от необходимости становиться лучше. Трезвый взгляд нам не свойствен, потому что тогда придется работать. А мы не хотим работать. Почему — я не знаю, не понимаю.
— Ваши точки отсчета.
— Самые банальные. От «Биттлз» до Иоганна Себастьяна Баха, от Боба Дилана до Йейтса, Шекспира, Пушкина, «Мастера и Маргариты», «Роллинг Стоунз». Это очень небольшая колода карт.
— Как-то вы сказали: после Пушкина — я.
— В каком контексте я это сказал?
— А в каком могли сказать?
— Контекст № 6… Ни в каком, потому что я стихи пишу очень редко, их почти никто не слышит. Пушкин поэт. Я не поэт, мне даже думать про это странно. Пушкин — один из самых совершенных поэтов в мире, если не самый совершенный. Его легкость по-настоящему божественна. Он божественнее, чем Моцарт. Он ухитрился почти 200 лет назад написать стихи лучше, чем кто-либо до и после него. Сравнивать кого-то с Пушкиным невозможно. Он явление другого порядка, он — астрономическое явление. И тем более его проза. Она до сих пор является лучшей прозой на русском языке.
— Пишете ли прозу вы?
— Я вообще ничего не пишу. Я пишу песни, чтобы порадовать своих друзей или жену.
— Сочинение стихов и песен — это разные способы творчества?
— Абсолютно. У песен есть музыка, которая многое договаривает, стихи — это другая отрасль. Стихи более трудоемкий бизнес.
— Когда вы составляли каталог русских икон, сочиняемая музыка отличалась от той, которая возникала, скажем, в горах Тибета. Философия сказывается на выборе инструментов?
— Это не философия. Когда я пою и играю — это жизнь. Любая философия, учение, книга — это инструмент для достижения истинного переживания жизни. Если есть истинное переживание жизни — мне больше ничего не надо.
— Но вы же не переживаете это состояние каждую минуту. Инерционность жизни слишком велика.
— Когда больному человеку говорят: надо сделать то-то и то-то или вы умрете, он забудет про инерционность жизни. Он будет скакать по врачам как миленький. Про инерционность говорят только те, которым врачи еще не сказали. А мы все должны скакать, поскольку каждое мгновение жизни неповторимо, бесценно, и оно уходит. Жизнь утекает, другой такой не будет. Мы не родимся здесь в это время еще раз, надо отбросить все рассуждения об инерционности жизни, культуре, философии и жить. Приносить друг другу удовольствие, без этого жизнь не является реальной жизнью, а является рассуждением.
— Что с вами будет после смерти?
— Не скажу.
— А что вы чувствуете, когда получаете правительственную награду?
— Этот единственный орден дал огромное переживание — моя мама была счастлива. Поэтому я готов принять награды от всех государств, которые существуют.
— Вы готовы делать некоторые усилия для этого?
— Никогда. Если я буду делать усилия, то это буду не я. И тогда буду недостоин награды.
— Вы считаете, что награды дают по заслугам?
— Когда корове дают награду за самые большие удои, то вряд ли думают о том, что она их даст еще больше. Ее награждают за то, что уже есть. Я в данном случае — как та корова.
— Но вам-то дают не за удои, а за то, что ваше присутствие в этом пространстве меняет сознание этого общества.
— Если мне дают награды за то, что я пытаюсь сделать эту жизнь лучше, и общество это понимает, то я низко кланяюсь такому обществу. Значит, общество возвышенно, проникновенно, просветленно и видит то, чего я не вижу. В 70-е, да и в 80-е я такого не мог и представить.
— Сознание общества сильно изменилось?
— Люди меняются, значит, и сознание общества меняется. Существует общая направляющая данной культуры, психологический профиль среднего человека, но люди вбирают в себя все новые влияния, поэтому все в мире меняется. Даже устойчивые культуры с длинной историей меняются.
— Периоды устойчивости все короче, перемены все стремительнее. Есть ли сейчас в музыке определяющее направление, каким, например, был рок в 80-е. Или массовая культура размыла все границы?
— Спросите у эмо, они вам объяснят, кто определяющий. Спросите у рэперов, они вам скажут, кто главный. Я не встречал ни одного серьезного философа, который мог бы объяснить, что происходит в мире популярной культуры последние 50 лет. И я не возьмусь. Я знаю, что настоящее, несмотря на обилие разностей, где-то есть. Только оно недоступно. Красота не любит массовости, она там, где ее сразу не увидишь. Я бы мог махнуть рукой и отчаяться, но я знаю, что она есть. Как опять-таки кто-то говорил, что добро и зло не изменились и не изменятся, так и красота останется красотою.
— У вас берут автографы милиционеры и даже в Сохо на вас оборачиваются официантки. Они понимают истинную красоту?
— Они чувствуют, что за мной стоит то, что больше меня. Ко мне в Майами подходили крашеные старушки и говорили: «Мы не знаем, кто вы, но понятно, что вы кто-то, дайте нам автограф». Я считаю это огромным комплиментом, но не мне, а тому, что стоит за мной. Люди через меня видят свет, который идет откуда-то. Он не мой, я просто более прозрачный.