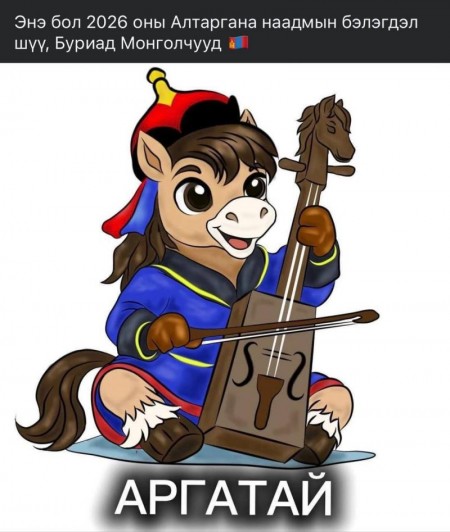За неоценимый вклад
Издательство "Гилея", специализирующееся на истории русского авангарда, выпустило семитомное собрание сочинений Геннадия Айги. Через три года после смерти поэт, говоривший на языке Малевича и Хлебникова, впервые получил издателей, которых заслужил еще в конце 1950-х годов.

Такого Айги легче представить себе по-французски, по-немецки или по-польски — это там, в Европе, самый непонятный русский поэт второй половины столетия давно признан классиком мирового масштаба. Канонического Айги тоже издали на Западе — главный его читатель, не профессор-славист, а именно читатель, увы, давно живет там. Естественно, на мелованной бумаге. Естественно, так, чтобы слова на странице чувствовали простор, если уж главное для Айги — разговор о том, как рождается речь. Почти всегда на двух языках, на русском и в переводе, чтобы зазвучала вся несловарная, невозможная графика: "жизнь-как-вещь", "песенка-республика", "долго: Солнце", "молчанием-страной-своею-трупов", "И: мгновенья-в-березах". Для западного уха имя Геннадия Айги звучит как русское, и в этом нет ничего удивительного. Удивительное и позорное в том, что для русского оно звучит как западное: в книжных магазинах, куда уже завезли семитомник, первые экземпляры попали на полки "Переводная поэзия" или "Литература русского зарубежья".
Смысловое ударение здесь, конечно, на количестве томов: столько — семь — из поэтов новейшего времени пока есть только у Бродского. Аргумент очень понятный, и не сказать, чтобы составители сознательно растягивали корпус текстов, но ощущение ненужной дробности от семи маленьких книжек все же остается. В отличие от Бродского Геннадий Айги писал только миниатюры, таким стихотворениям как раз решительно показаны толстые тома. Первое, чем пришлось пожертвовать, когда все, написанное поэтом, делили на семь частей,— размеры страницы, и в случае Айги это самая большая потеря. В стихотворениях Айги есть собственный метасюжет, вся его поэзия целиком — действо, разыгрывающее, как из допредметного и дословесного мира впервые проступают предмет и речь ("и лилия была, как слог второй", "овраги-рты", "на юру на ветру ель без ели играет в ю без ю"). Графическое тело текста здесь не менее важно, чем его звучание: строкам Айги физически нужно проступать из белизны страницы ("ярко-чистой белизны", так определял он сам), как овраг или окно нечаянно возникают в его стихах усилием снега или поля.
Мы говорим о поэте, для которого сказать о чем-то, что это существует, значит зафиксировать в словах само существование, в буквальном смысле поместить реальность в поле текста. Это особенно наглядно, когда перед нами стихотворная шутка, например одностишие "Нет мыши — есть": пока мы водим глазами по строке, "мышь" действительно успевает пробежать из угла страницы в другой. Но это и принцип всей лирики Айги: надписать посвящение здесь означает вызвать из небытия, поставить слова рядом — установить космическое родство, соединить дефисом — задать новый ритм эволюции.
Как это нужно издавать? В западной традиции — на бумаге, которая самим своим видом внушает уважение и отметает вопросы, под аккомпанемент классиков-абстракционистов? Или по-нашему — с предисловием к каждому тому, старательно разъясняющим, как это нужно понять и почему чувашский поэт может быть не "переводной лирикой", а русским национальным достоянием?
Кстати, самым убедительным аргументом наши издатели пока не воспользовались. Достаточно, наверное, было бы краткого путеводителя по Айги, со справками обо всех, кому он посвящал свои стихи, чтобы мы наконец поняли, почему всего несколько лет назад русскому Айги мир готов был отдать Нобелевскую премию.