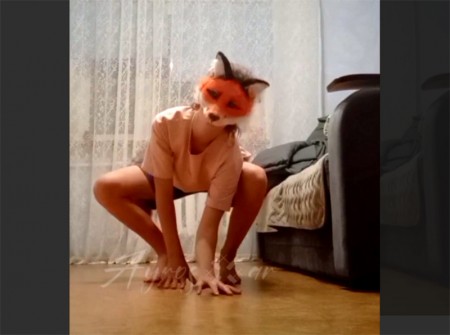Последнее слово Марии Алехиной на процессе над PussyRiot
Этот процесс показателен и красноречив. Не раз еще власть будет краснеть за него и стыдиться. Каждый его этап – квинтэссенция беспредела.
Как вышло, что наше выступление, будучи изначально небольшим, и несколько нелепым актом, разрослось до огромной беды? Очевидно, что в здоровом обществе такое невозможно. Что Россия как государство давно напоминает насквозь больной организм. И эта болезнь взрывается с резонансом, когда задеваешь назревшие нарывы. Эта болезнь сначала долго публично замалчивается, но позже всегда находится разрешение через разговор. Смотрите: вот она форма разговора, на которую способна наша власть! Этот суд – не просто злая гротескная маска, это лицо разговора с человеком в нашей стране.
На общественном уровне для разговора о проблеме часто нужна ситуация – импульс. И интересно, что наша ситуация уже изначально диперсонифицирована. Потому что, говоря о Путине, мы имеем ввиду, прежде всего, не Владимира Владимировича Путина, но мы имеем ввиду Путина, как систему, созданную им самим. Вертикаль власти, где все управление осуществляется практически вручную. И в этой вертикали не учитывается, совершенно не учитывается мнение масс. И, что больше всего меня волнует, не учитывается мнение молодых поколений. Мы считаем, что неэффективность этого управления, она проявляется практически во всем.
И здесь в последнем слове я хочу вкратце описать мой непосредственный опыт столкновения с этой системой.
Образование, из которого начинается становление личности в социуме, фактически игнорирует особенности этой личности. Отсутствует индивидуальный подход, отсутствует изучение культуры, философии и базовых знаний о гражданском обществе. Формально эти предметы есть, но форма их преподавания наследует советский образец. И, как итог, мы имеем маргинализацию современного искусства в сознании человека, отсутствие мотивации к философскому мышлению, гендерную стереотипизацию, и отметание в дальний угол позиции человека как гражданина.
Современные институты образования учат людей с детства жить автоматически. Не ставят ключевых вопросов с учетом возраста, прививают жестокость и неприятие инакомыслия. Уже с детства человек забывает свою свободу.
У меня есть опыт посещения психиатрического стационара для несовершеннолетних. И я с уверенностью говорю, что в таком может оказаться любой подросток, более или менее активно проявляющий инакомыслие. Часть детей, находящихся там – из детских домов. И у нас в стране считается нормой - ребенка, пытавшегося сбежать из детдома, положить в психбольницу, и осуществлять лечение сильнейшими успокоительными, такими, как например, аминазин, который использовался еще для усмирения советских диссидентов в 70-е годы. Это особенно драматично при общем карательном уклоне и отсутствии психологической помощи, как таковой. Все общение там построено на эксплуатации чувства страха и вынужденного подчинения этих детей. И, как следствие, уровень их жестокости опять же вырастает в разы. Многие дети там безграмотны, но никто не делает попыток бороться с этим. Напротив, отбиваются последние капли мотивации к развитию. Человек замыкается, перестает доверять миру.
Хочу заметить, что подобный способ становления очевидно препятствует осознанию внутренней и, в том числе, религиозной свободы, и носит массовый характер, к сожалению. Следствием такого процесса, как я только что сказала, является онтологическое смирение, бытийное смирение в социализации. Этот переход - или перелом - примечателен тем, что, если воспринимать его в концепции христианской культуры, то мы видим, как изменяются смыслы, символы на прямо противоположные. Так, смирение – одна из важнейших христианских категорий - отныне понимается в бытийном смысле не как путь очищения, укрепления, конечного освобождения человека, а, напротив, как способ его порабощения. Цитируя Николая Бердяева, можно сказать, что «онтология смирения – это онтология рабов божьих». А не сынов божьих.
Когда я занималась организацией экологического движения, у меня окончательно сформировался приоритет внутренней свободы, как основы для действия. И также важность, непосредственная важность действия, как такового. До сих пор мне удивительно, что в нашей стране требуется ресурс в несколько тысяч человек для прекращения произвола одного или горстки чиновников. Я хочу заметить, что наш процесс – очень красноречивое подтверждение тому. Требуется ресурс тысяч людей по всему миру, чтобы доказать очевидное: что мы невиновны втроем. Об этом говорит весь мир! Весь мир говорит на концертах, весь мир говорит в интернете, весь мир говорит в прессе! Об этом говорят в парламенте. Премьер-министр Англии приветствует нашего президента не словами об олимпиаде, а вопросом, почему три невиновные девушки сидят в тюрьме. Это позор!
Еще более удивительно для меня, что люди не верят в то, что могут как-либо повлиять на власть. Во время проведения пикетов и митингов, когда я собирала подписи и организовывала этот сбор подписей, многие люди меня спрашивали, при том спрашивали с искренним удивлением: какое им, собственно, может быть дело до, может быть, единственного существующего в России, может быть, реликтового, но какое им дело до этого леса в Краснодарском крае, небольшого пятачка? Какое им, собственно, дело, что жена нашего премьер-министра Дмитрия Медведева собирается построить там резиденцию и уничтожить единственный можжевеловый заповедник у нас в России? Вот эти люди… Еще раз находится подтверждение, что люди у нас в стране перестали ощущать принадлежность территорий нашей страны им самим, гражданам. Эти люди перестали чувствовать себя гражданами. Они чувствуют себя просто автоматическими массами. Они не чувствуют, что им принадлежит даже лес, находящийся непосредственно у них около дома. Я даже сомневаюсь в том, что они осознают принадлежность собственного дома им самим. Потому что, если какой-нибудь экскаватор подъедет к подъезду, и людям скажут, что им нужно эвакуироваться, что, извините, мы сносим теперь ваш дом, здесь будет теперь резиденция чиновника - эти люди покорно соберут вещи, соберут сумки и пойдут на улицу. И будут там сидеть ровно до того момента, пока власть не скажет им, что делать дальше. Они совершенно аморфные. Это очень грустно.
Я почти полгода сижу, и я поняла, что тюрьма – это Россия в миниатюре. Начать даже можно с системы управления – это та же вертикаль власти, где решение любых вопросов происходит единственно через прямое вмешательство начальника. Отсутствует горизонтальное распределение обязанностей, которое заметно облегчило бы всем жизнь. И отсутствует личная инициатива. Процветает донос, взаимное подозрение. В СИЗО, как и у нас в стране, все работает на обезличивание человека, приравнивание его к функции: будь то функция работника или заключенного. Строгие рамки режима дня, к которому быстро привыкаешь, похожи на рамки режима жизни, в которые помещают человека с рождения. В этих рамках люди начинают дорожить малым. В тюрьме это, например, скатерть или пластиковая посуда, которую можно раздобыть только с личного разрешения начальника. А на воле это, соответственно, статусная роль в обществе, которой тоже люди очень сильно дорожат, что мне, например, всегда всю жизнь было удивительно.
Ещё один момент – это осознание этого режима, как спектакля, который на реальном уровне оказывается хаосом. Внешне режимное заведение обнаруживает дезорганизацию и неоптимизированность большинства процессов. И очевидно, что к управлению это явно не ведет. Напротив, у людей обостряется потерянность, в том числе во времени и пространстве. Человек, как и везде в стране, не знает, куда обратиться с тем или иным вопросом. Поэтому обращается к начальнику СИЗО. На воле, считай, к начальнику Путину.
Выражая в тексте собирательный образ системы, который… Да, в общем, можно сказать, что мы не против… Что мы против путинского хаоса, который только внешне называется режимом.
Выражая в тексте собирательный образ системы, в которой по нашему мнению, происходит некоторая мутация практически всех институтов, при внешней сохранности форм, и уничтожается такое дорогое нам гражданское общество, мы не совершаем в текстах прямого высказывания. Мы лишь берем форму прямого высказывания. Берем эту форму, как художественную форму. И единственное, что тождественно – это мотивация. Наша мотивация – тождественна мотивации при прямом высказывании. И она очень хорошо выражена словами Евангелия: «Всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Я, и мы все, искренне верим, что нам отворят. Но, увы, пока что нас только закрыли в тюрьме. Это очень странно, что реагируя на наши действия, власти совершенно не учитывают исторический опыт проявления инакомыслия.
«Несчастна та страна, где простая честность воспринимается в лучшем случае, как героизм, а в худшем, как психическое расстройство», - писал в 70-е годы диссидент Буковский. И прошло не так много времени, и уже как будто не было ни Большого Террора, ни попыток противостоять ему. Я считаю, что мы обвиняемы беспамятными людьми.
«Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его»? Эти слова принадлежат иудеям, обвинившим Иисуса Христа в богохульстве. Они говорили: «Хотим побить тебя камнями, за богохульство». (Иоанн 10.33). Интересно, что именно этот стих использует русская православная церковь для выражения своего мнения на богохульство. Это мнение заверено на бумаге, приложено к нашему уголовному делу. Выражая его, русская православная церковь ссылается на Евангелие как на статичную религиозную истину. Под Евангелием уже не понимается откровение, которым оно было с самого начала. Но под ним понимается некий монолитный кусок, который можно разодрать на цитаты, и засунуть, куда угодно, в любой свой документ, использовать для любых целей. И русская православная церковь даже не озаботилась тем, чтобы посмотреть, в каком контексте используется слово «богохульство», что в данном случае оно было применено к Иисусу Христу.
Я считаю, что религиозная истина не должна быть статичной. Что необходимо понимание имманентных путей развития духа, испытаний человека, его раздвоенности, расщепления. Что все эти вещи необходимо переживать для становления. Что только посредством переживания этих вещей человек может к чему-то придти, и будет приходить постоянно. Что религиозная истина – это процесс, а не оконченный результат, который можно засунуть, куда угодно. И все эти вещи, о которых я сказала, эти процессы, они осмысляются в искусстве и философии. В том числе, в современном искусстве. Художественная ситуация может и, на мой взгляд, должна содержать свой внутренний конфликт. И меня очень сильно раздражает вот эта «так называемость» в словах обвинения применительно к современному искусству.
Я хочу заметить, что во время суда над поэтом Бродским, использовалось ровно то же самое. Его стихи обозначались, как «так называемые стихи», а свидетели их не читали. Как и часть наших свидетелей не были очевидцами произошедшего, но видели в интернете клип.
Наши извинения, видимо, тоже обозначаются в собирательной обвиняющей голове, как «так называемые». Хотя это оскорбительно и наносит мне моральный вред и душевную травму. Потому что наши извинения были искренними. Мне так жаль, что произнесено было такое количество слов, но вы до сих пор их не поняли. Или вы лукавите, говоря о наших извинениях, как не искренних извинениях? Я не понимаю, что вам ещё нужно услышать? Для меня лишь этот процесс имеет статус «так называемого процесса». И я вас не боюсь. Я не боюсь лжи и фикции, плохо задекорированного обмана в приговоре так называемого суда, потому что вы можете лишить меня лишь так называемой свободы. Только такая существует в Российской Федерации. А мою внутреннюю свободу никому не отнять. Она живёт в слове, она будет жить, благодаря гласности, когда это будут читать и слышать тысячи людей. Эта свобода уже продолжается с каждым неравнодушным человеком, который слышит нас в этой стране. Со всеми, кто нашел осколки процесса в себе, как когда-то нашли их Франц Кафка и Ги Дебор. Я верю, что именно честность и гласность, жажда правды сделают всех нас немного свободнее.
Мы это увидим.






_21195903_b.jpg)